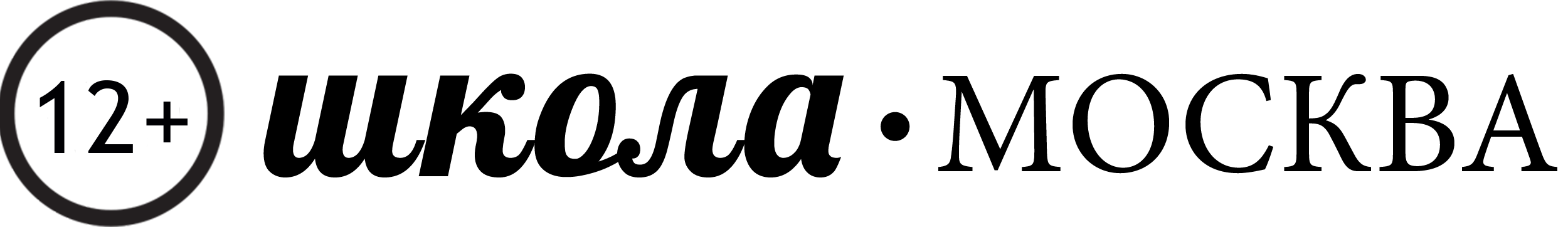В Новой Третьяковке сейчас проходит большая выставка Роберта Фалька, а в Лаврушинском переулке показывают графику художников объединения «Мир искусства». Сравнивать таких разных мастеров, конечно, занятие неблагодарное. Но если присмотреться, кое-что общее у них все же есть. Мы приняли негласный вызов «Третьяковки» и попытались разобраться, что именно.

А. Н. Бенуа. Китайский павильон. Ревнивец. 1906 г.

Р. Р. Фальк. В белой шали (А. В. Щекин-Кротова). 1947 г.
АЛЕКСАНДР БЕНУА И ЕГО «МИР ИСКУССТВА»
Название этой экспозиции невольно вводит зрителя в заблуждение. Работ Александра Бенуа на выставке действительно много, но хватает здесь и замечательной графики Мстислава Добужинского, и произведений Константина Сомова и Леона Бакста. Экспозиция посвящена всему объединению «Мир искусства», ярко вспыхнувшему в культурной жизни России на рубеже XIX–XX столетий.
Вторая половина XIX века обычно представляется периодом, когда в русской живописи безраздельно господствовали передвижники. Почти каждый знаменитый художник того времени состоял в их товариществе. На выставках объединения зрители впервые увидели «Утро стрелецкой казни» и «Боярыню Морозову» Сурикова, «Не ждали» и «Крестный ход в Курской губернии» Репина, картину Крамского «Христос в пустыне» и «Московский дворик» Поленова.

А. Н. Бенуа. Фантазия на Версальскую тему. 1906 г.
Главными противниками передвижников были академисты. В своих полотнах они не затрагивали актуальных тем, волновавших русское общество в то время. Предпочитали им исторические и мифологические сюжеты, верно следовали традициям и как будто совершенно не замечали шумную современность за окнами. А там было интересно: реформы Александра II с давно назревавшей отменой крепостного права; разочарование в непоследовательности этих реформ; наконец, накопившиеся социальные противоречия. Передвижники считали, что игнорировать такие события преступно.
Они вывели искусство из душных академических мастерских, принесли в него жизнь прямо с улицы и беспощадно бичевали общественные пороки.
Но любое творческое объединение рано или поздно стареет. Оно перестает развиваться, шаблонно воспроизводит одни и те же темы, приемы и образы, которые постепенно теряют изначальный смысл. Люди тоже устают отстаивать свою самость. Ближе к концу века это закономерно случилось с передвижниками. Некоторые из них вступили в ненавистную когда-то Академию. Чем дальше, тем меньше возникало и сильных передвижнических произведений.

Теперь представим положение молодого художника на рубеже веков. Он, конечно, хочет участвовать в выставках, показывать и продавать свои картины. Но вся власть в культуре поделена между академистами и передвижниками, а ни те ни другие ему совершенно не нравятся. Он все-таки человек другого поколения, с иными ценностями. Приходится выбирать: отказаться от своих идей и вкусов или тихонько голодать и холодать в каморке-мастерской… Звучит грустно. Но есть кое-что еще. Почему бы, в конце концов, не создать собственное объединение, чтобы вступить в игру под своим флагом?
Именно так и поступили мирискусники. Академистов они не любили за косность и пренебрежение «малыми жанрами». Главная претензия к передвижникам — в их социальной критике мало, собственно, живописности и красоты. Главной ценностью новообразованного «Мира искусства» стала как раз красота.

Л. С. Бакст. Портрет С. П. Дягилева с няней. 1906 г.
Объединение выросло из кружка любителей прекрасного, собравшегося вокруг Александра Бенуа.
Его участниками были в том числе молодые художники Леон Бакст, Евгений Лансере и Константин Сомов. Однако настоящая деятельность общества началась с идеи создания журнала, посвященного художественным вопросам. Неизвестно, что бы получилось из этой задумки, если бы рядом с Бенуа вовремя не оказался блестящий организатор Сергей Дягилев. К проекту молодых и, как впоследствии оказалось, перспективных искусстволюбов он привлек меценатов: Савву Мамонтова и княгиню Марию Тенишеву. А потом разослал письмо с программой объединения и призывом к совместному перевороту в культуре художникам, среди которых были и уже признанные мастера, такие как Левитан, Серов и Коровин. В дальнейшем они принимали участие в деятельности «Мира искусства».
Еще на этапе создания журнала Сергей Дягилев организовал «Выставку русских и финляндских
художников», ставшую первым совместным выступлением основных участников объединения — Бенуа, Бакста и Сомова, а показанное панно Врубеля вызвало настоящий скандал. В то время над художником откровенно издевалась пресса, а самого его считали декадентом и зарвавшимся недоучкой. Впрочем, «скандал», если перевести его на язык рекламы, означает «внимание». Так что мирискусников заметили, а после выхода журнала игнорировать их было уже невозможно.

В. А. Серов. Петр I в Монплезире. 1910–1911 гг.
Время в истории искусства отличается от обычного календарного. Авангард, а вместе с ним и ХХ век, как правило, отсчитывают с объединения «Голубая роза» или с «Бубнового валета». «Мир искусства», таким образом, оказывается одним из последних громких явлений XIX столетия. Впрочем, можно посмотреть чуть иначе: выделить эпоху модерна в отдельный, переходный период, и тогда мирискусники, пожалуй, окажутся в самом сердце этих перемен. Вернемся к выставке в «Третьяковке» и попробуем разобраться, о чем и как говорили художники этого объединения.
Экспозицию «Александр Бенуа и его “Мир искусства”» хочется назвать камерной или тихой.
Она притаилась в главном здании, между залами «Голубой розы» и иконописи. От постоянной экспозиции отделена только небольшой афишей. Никакой специальной архитектуры для создания мирискуснической атмосферы музей не предусмотрел — просто работы, которые должны говорить сами за себя.

М. В. Добужинский. Человек в очках. 1905–1906 гг.
Впрочем, камерность — как будто самое подходящее решение для графики мирискусников. Громкому социальному высказыванию передвижников и пафосу Академии они противопоставляли тихую красоту
прошлого — усадьбы, дворцовые парки, шествия царской свиты и таинственную дымку маскарадов. Ностальгическая лирика предопределила любимые материалы мирискусников. Это гуашь, темпера, акварель, тушь, небольшие листы бумаги или картона. Традиционные «холст, масло» художники объединения оставили академикам и вооруженным кистью с палитрой борцам за социальную справедливость.

М. В. Добужинский. Домик в Петербурге. 1905 г.
Почему красота и ностальгия так тесно переплелись у мирискусников? Эту связь могут объяснить работы Мстислава Добужинского, который примкнул к объединению в начале 1900‑х и стал одним из наиболее последовательных выразителей его идей. На выставке есть сразу несколько его городских видов: «Домик в Петербурге», «Двор», «Уголок Петербурга. Двор», «Старый домик». Все они созвучны, а самое интересное — еще и созвучны нашему времени. В Сети ведь постоянно встречаются фотографии старой или относительно старой Москвы на фоне разрастающейся стеклянно-бетонной современности — виды церкви и бизнес-центра на площади Тверская Застава или небоскребов Сити, возносящихся над тихими советскими «спальниками». Добужинский показал все это 100 с лишним лет назад. Старинные городские усадьбы и деревянные избы в его работах окружены страшными домами-машинами.
«Доходный дом» — даже звучит как-то неуютно, слишком утилитарно, и уж точно между ним и «родовым гнездом» — какой-то временной слом, трещина, навсегда отделившая ту реальность от этой. Добужинский не документирует движение времени, а вполне ясно выражает эстетическую гражданскую позицию: пишет пугающе огромные голые стены, расквадраченные рядами провалов — темных окон. При этом дома расположены так, что обязательно закрывают горизонт, — как в вангоговской «Прогулке заключенных» запирают человека. Его собственный двор отныне — тюремный, а срок — пожизненный. И в будущем — ничего, горизонт, задернутый бетонной занавеской. Старые маленькие дома выглядят детскими игрушками, просыпавшимися под валец катка, — так страшно давят их эти громадины. Но вместе с гибелью мира прошлого исчезает и красота.

М. В. Добужинский. Уголок Петербурга. 1904 г.
Действительно, в отличие от футуристов десятилетием позже, мирискусники не умели или не хотели разглядеть красоту новой урбанистической и индустриальной реальности. Она казалась им бездушной и бесчеловечной, обрекающей людей на роли штампованных винтиков общественного механизма. Мирискусники боялись утраты чувства красоты, пытались спасти его и потому, как удочки, забрасывали кисти в прошлое, вылавливая призрачные образы золотого века — разумеется, больше воображаемого, чем исторического.
Такова природа многих работ Александра Бенуа. Он писал виды резиденций французских королей —
Версаля и Фонтенбло, старые уголки Парижа и Рима; наконец, отечественные Петергоф, Ораниенбаум,
Гатчину. Бенуа находил в дворцовых парках фонтаны, ротонды, стройные балюстрады с вазонами, иногда показывал и героев прошлого: королевскую свиту, прогуливающихся господ в костюмах и игривых дам в платьях. Но главное — запечатлевал неуловимый дух красивых эпох, ускользнувших в небытие, и таким образом добывал его для современности. На выставке, кроме работ самого Бенуа, можно увидеть более или менее созвучные «исторические» работы Валентина Серова, Евгения Лансере, Зинаиды Серебряковой.

Иной способ вылавливания красоты исчезнувших времен предлагает Константин Сомов. Его маскарады, кавалеры, заигрывающие с жеманными дамами, не отсылают к конкретным историческим координатам — только к абстрактному прошлому. Как много на картинах Сомова задремавших женщин! Как будто и сам художник погрузился в сон… Он пишет вымышленное прошлое, свою мечту об эпохе красоты, пронизывающей жизнь. Поэтому его герои часто одновременно веселые и печальные — слишком скоро закончится маскарад, и тогда придется проснуться.

А. Н. Бенуа. Водный партер в Версале. Осень. 1905 г.
Но мирискусники — не только прошлое. В будущее они тоже заглядывали, лишь бы не задерживаться в настоящем. Глупо же смиряться с утратой красоты, когда можно попробовать возродить ее — и так, постепенно возрождая, изменить реальность, переправив ее по законам прекрасного. Вся эпоха модерна мечтала о таком исцелении. Мирискусники не были исключением. И они по возможности несли красоту — помимо написания картин оформляли книги, создавали предметы декоративно-прикладного искусства, работали над театральными постановками.

А. Н. Бенуа. Прогулка короля. 1906 г.
Театр для участников объединения был метафорой мира, а заодно такой реальностью, которую можно всецело сконструировать по законам красоты. На выставке театральным работам посвящен отдельный зал. В нем можно увидеть, например, выдающиеся эскизы Натальи Гончаровой к спектаклям Дягилева — эскиз занавеса, выглядящий самостоятельной картиной, и образы сказочных героев Полкана и Гвидона, которые наверняка очень понравятся детям.

А. Н. Бенуа. Купальня маркизы. 1906 г.
Мирискусники оставили и довольно необычное собрание портретов современников. Фотографическое изображение лица они сочетали со свободно, несколькими линиями данным телом. Кажется, такие портреты были бы актуальны в инстаграме. С произведениями Бакста и Сомова соседствуют иные по манере работы Серова. Кстати, канонический сомовский портрет Александра Блока тоже можно увидеть на выставке.
РОБЕРТ ФАЛЬК
Классический период «Мира искусства» завершился в 1904 году, когда объединение расширилось и утратило стилистическое единство. За два года до этого произошло событие, перевернувшее жизнь юного Роберта Фалька. С этого момента он отказался от идеи стать музыкантом и навсегда влюбился в профессию художника. А в 1905 году, со второй попытки, поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Е. Е. Лансере. Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе. 1905 г.
До знаменитой экспозиции «Бубнового валета» оставалось чуть больше пяти лет. До окончательной гибели «Мира искусства» — 22 года. В сущности, Фальк и мирискусники действовали одновременно. И все-таки путь с одной выставки на другую занимает не полчаса — от Лаврушинского переулка до Крымского Вала. «Мир искусства» и «Бубновый валет» — явления разных веков. Слишком отличное у них понимание художественных задач и вообще той работы, которую делает художник. Впрочем, «Бубновый валет» — это лишь самое начало пути Фалька.

К. А. Сомов. Арлекин и дама (Фейерверк). 1912 г.
Экспозиция — не только картины и порядок их расположения, но и специфическое пространство, в котором они находятся. Камерные залы лучше всего подходят для тихой графики мирискусников. Архитектура выставки в Новой Третьяковке — совершенно фальковская.
Первые части экспозиции размещены в зигзагообразном коридоре, отображающем верность художника собственному пути в «лабиринтах авангарда». Затем ломаная линия сменяется отсылающими к классической архитектуре, но вполне минималистичными залами. Они соответствуют манере зрелого и позднего Фалька — его интересу к старым мастерам, аскетичности. Однако отделаться от ассоциаций со стилем сталинской эпохи, в которую пришлось работать Фальку, не получается. А небольшие, тесные блоки как будто говорят об отверженности живописца, не вступившего в ряды пропагандистов от искусства и сохранившего самость в стенах своей мастерской.
Стоит ли говорить, что, поменяйся выставки Фалька и мирискусников интерьерами, обе экспозиции получились бы совершенно невразумительными? И дело не только в разности художественных подходов, но и в чуждых характерах эпох тоскующего заката Российской империи и решительных авангардистских поисков, сменившихся попытками остаться личностью в условиях тоталитарного режима.

Фальк никогда не был типичным «бубновалетовцем» вроде Машкова или Кончаловского. С ними его роднил интерес к новейшим европейским течениям и понимание живописи как работы в первую очередь со структурой произведения — композицией, ритмом, линией, колоритом, фактурой. И все же художник кажется слишком утонченным рядом с показной грубостью того же Машкова. В картинах 1910‑х Фальк перерабатывает опыт кубизма. Делает это очень по-своему и отчасти «по-сезанновски». Вообще, именно Поль Сезанн был главным учителем в его творческой жизни.


Солнце. Крым. Козы. 1916 г.
Картины Фалька интересно смотреть вблизи — так становятся видны фактурные мазки и оттенки, которыми очень богаты его произведения. Кажется, что изображенный человек, вид или натюрморт оказываются в тени, собственно, красок и того, как точно они друг с другом совпали. Возникает даже впечатление, что живопись Фалька больше о самой живописи, чем о чем-либо другом. Но когда смотришь на резковатые и взволнованные мазки, на заостренные кубистические формы и асимметричные композиции фальковских работ, начинает казаться, что художник ищет в изображаемом какой-то скрытый драматизм, ускользающий от повседневного взгляда. Может быть, именно поэтому он показывает предметы как линии и пятна — чтобы отвести зрение от назойливого привычного облика вещей, «освежить» их и показать живыми, в совокупности внешнего и внутреннего, напряжения и красоты.

Совсем иначе выглядят работы 1920‑х. В это время Фальк обращается к старым мастерам и занимается, в сущности, тем, чем занимался Сезанн, — пытается привнести в современную живопись монументальность искусства прошлого. Интересно, что эта задача увлекает художника именно в первое послереволюционное десятилетие, когда другие деятели искусства соревнуются в изобретательности и смелости концепций. Конструктивисты, производственники, супрематисты — все ищут «место для шага вперед». Фальк же собирается в обратный путь. Его колорит стремительно темнеет, становится аскетичнее, фактура делается более вязкой, ломаные кубистические формы сменяет геометрическая ясность силуэтов. В этот период Фальк пишет много портретов («Женщина в красном лифе», «Женщина в белой повязке», портрет художника Александра Древина, автопортреты), однако разгадать личность
изображенного, даже просто что-то о ней узнать, сложно. Художник прячет своих героев в закрытые позы, не слишком тщательно прописывает лица. Густая, многослойная фактура оказывается своеобразной занавеской, скрывающей портретируемого от зрителя.

Автопортрет. 1923 г.

Автопортрет (фрагмент). 1923 г.
Кое-что может объяснить «Женщина, лежащая на тахте под портретом Сезанна (Р. В. Идельсон)», написанная в 1929‑м, уже в Париже, куда Фальк отправился в десятилетнюю командировку. Третья жена художника, Раиса Идельсон, погружена в мысли; ее глаза опущены, а руки расслаблены. На голой стене — небольшой портрет Сезанна. Вот, собственно, все, что можно описать. Но большего и не нужно. Погруженность в прошлое, обращение к классике и закрытость портретируемого, судя по всему, родственные явления. И то и то — своеобразный способ защиты личности в эпоху страшных и унифицирующих человека общественных преобразований. Герои Фалька потому и сохраняют самость, что скрыты от внешнего мира. Даже от зрителя прячутся, но это вынужденная мера.
В Париже художник заново открывает импрессионистов. Но, в отличие от них, избегает шумных бульваров — пишет обычные и тихие места. Бежит и от ярких, солнечных цветов. Париж Фалька выдержан в серых тонах, что, впрочем, вполне ожидаемо от такого «интровертного» живописца.

Картошка. 1955 г.
Смотреть картины мастера времен «Бубнового валета» с близкого расстояния полезно в смысле изучения фактуры и колорита — полезно, но не обязательно. В парижских видах это необходимость, потому что, меняя дистанцию, вы будете видеть одну и ту же работу каждый раз по-иному. Холст «Три дерева. Набережная Сены» издали кажется монотонной прогулкой в скучный, бесцветный день. Но если подойти поближе и всмотреться, в картине откроется множество оттенков,
прикрытых серостью, но рвущихся из-под нее. Это и есть потайная красота, какая-то неочевидная и как раз подлинная жизнь вещей, ускользающая от невнимательных прохожих. Фальк пишет это ускользание, эту загадку, к которой надо пробиться чутким созерцающим взглядом.
Художник вернулся в Москву в 1937‑м, но это была уже другая столица совсем другой страны. Однако поначалу судьба Фалька складывалась более-менее благополучно. В 1939 году состоялась его персональная выставка — как потом выяснилось, предпоследняя официальная в Москве. Следующая пройдет в 1958‑м, незадолго до смерти живописца, и будет совсем небольшой.

Три дерева. Набережная Сены. 1936 г.
На выставке 1939 года он встретил свою будущую жену — искусствоведа Ангелину Щекин-Кротову, которую до этого знал лишь мельком. Впоследствии она очень много сделала для популяризации творчества Фалька: хранила его работы, писала о нем, разумнопередавала его произведения в дар музеям; наконец, участвовала в организации нескольких посмертных
персональных выставок.
Во второй половине 1940‑х в СССР началась новая волна гонений на «формалистов». Ее Фальк уже не избежал. После закрытия Государственного еврейского театра, с которым сотрудничал художник, он не мог устроиться на работу. В последние годы Фальк жил в нищете, но радовался тому, что есть много свободного времени для картин. А невозможность выставлять работы в музеях отчасти компенсировал показами в своей мастерской в Доме Перцовой, рядом с метро «Кропоткинская» (в то время — «Дворец Советов»).

Женщина, лежащая на тахте под портретом Сезанна (Р. В. Идельсон). 1929 г.
Его гостями были в том числе и представители только формировавшегося неофициального искусства. Приходили будущие зачинатели соц-арта и концептуализма Эрик Булатов, Илья Кабаков, Иван Чуйков. Для молодого поколения художников-нонконформистов он стал культовой фигурой — не только связующим звеном между авангардом 1910–1920‑х и неофициальным искусством, но и живописцем, отстоявшим самобытность вопреки идеологическому давлению.
В поздних работах мастера уже не чувствуется азарта от прикосновения к тайне. Фальк показывает красоту самых простых вещей так прямо, как видит сам, — пишет знаменитый, предельно аскетичный натюрморт «Картошка» и нехитрые подмосковные пейзажи. Его герои тоже перестают «прятаться». Фальк подводит итоги своего жизненного пути, обобщает мысли и ценности, а потому в его портретах становится больше открытого психологизма. Раньше изображенные были «неизвестными», теперь — прежде всего люди со своей интонацией, судьбой и неизменно полные внутреннего достоинства. Таковы картины «Женщина в желтой блузе», «Портрет А. Г. Габричевского» и «Автопортрет в красной феске», прозорливо воспринятый искусствоведом Михаилом Алпатовым как «образ стоицизма».
МИРИСКУСНИКИ И РОБЕРТ ФАЛЬК
До сих пор мы говорили только о том, чем выставки «Александр Бенуа и его “Мир искусства”» и «Роберт Фальк» отличаются. Говорили и о принадлежности мирискусников и авангарда к разным векам истории искусства. Однако кое-что общее у Фалька и художников объединения есть.

Место под застройку. 1934 г.
Конечно, это и интерес к прошлому, и попытка внутренне дистанцироваться от современности, и специфический негромкий голос.Но главное, пожалуй, — вера в спасительную силу красоты, способной вырвать человека из жестких клешней утилитаристской современности. Мирискусники стремились выловить прекрасное из ушедших эпох и привнести в стремительно индустриализирующийся мир, чтобы сохранить в людях индивидуальность и эстетическое чувство. Ощущение неочевидной, ускользающей красоты в картинах Фалька — это тоже возможность спасения человеческого и личностного в бесчеловечную эпоху. В песне группы Nautilus Pompilius «Доктор твоего тела» есть замечательные строчки: «Ты не вылечишь мир, и в этом все дело. / Пусть спасет лишь того, кого можно спасти…» Так же и с прекрасным. Мир оно пока не исцелило. Но, как показывает пример Роберта Фалька, отдельных людей спасти может.

Мост у старой тюрьмы. 1936 г.
текст: С. Брут
фото: Р. Красноперов, Государственная Третьяковская Галерея